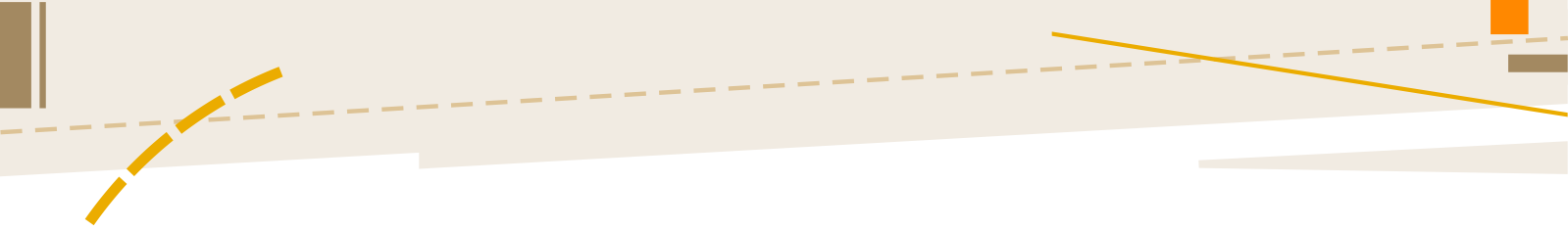Писатель Павел Крусанов правит тексты не в компьютере, а на листе, он отмечает множество интересных современников-писателей и отрицает мессианство литературы.
[su_accordion]
[su_spoiler title=»Биография»]
Окончил Ленинградский педагогический институт им. А.И.Герцена по специальности «география и биология». Работал осветителем в театре, садовником, техником звукозаписи, инженером по рекламе, печатником офсетной печати, с 1989 года – в издательствах на редакторских должностях. Был членом литературной группы «Гастрономическая суббота», в 1983-88 участвовал в выпуске одноимённого журнала, где опубликовал рассказы и роман «Где венку не лечь». В 1996 г. книга рассказов «Знаки отличия» выдвигалась на премию «Северная Пальмира»; лауреат премии журнала «Октябрь» за 1999 год (за роман «Укус ангела»). Автор 7 книг прозы, переложения эпоса «Калевала» и ряда издательских проектов (журнал «Ё», книжная серия «Версии письма» и т.д.). С 1992 года — Член союза писателей. Живет в Санкт-Петербурге.
[/su_spoiler]
[/su_accordion]
— Часто ли вас захватывает литературное произведение?
— Как читателя? Увы, не часто. Писатель, как известно, — испорченный читатель. В последнее время, работая в издательствах, приходится читать много рукописей. А рукописи из самотека, к сожалению, на 90% — пустая порода. Увлечься в этой ситуации сложно, просто задаешь себе вопрос: что тебе интересно в том, что здесь предъявлено? То есть оцениваешь арсенал автора, с профессиональной, то есть с ремесленной точки зрения. Невольно этот взгляд с рукописей переносится и на книги. Конечно, все-таки изредка бывают случаи, когда книга заставляет забыть свой профессиональный долг, очаровывает язык, обаяние недосказанного, сама фактура письма, включающая в себя слова, их порядок и паузы между ними, неожиданное развитие сюжета… Тут и возникает полное погружение в текст. Тогда снова испытываешь почти забытое, детское состояние благодарного читателя, не просто пробегающего глазами строку, но проживающего книгу, осознавая ее, пусть и мнимо, уже собственным жизненным опытом.
— Можете выделить кого-то из авторов, произведших на вас особенное впечатление?
— Гоголь, Достоевский, Лесков, Толстой, серебряные писатели, Вагинов, плеяда авторов 20-х годов прошлого века — Замятин, Пильняк, Всеволод Иванов. Из современных?.. В свое время на меня произвел большое впечатление Андрей Левкин, сейчас он ушел, что ли, в тень, а вот в 80-е это было событие — яркое, самобытное, заразительное. Левкиноведение — наука, которая еще ждет своего создателя. Он, может быть, один из главных авторов большого стиля, который мы сейчас называем постмодерном. Тем словом, которым теперь ругаемся. Прекрасное, изящное косноязычие, любовь к инверсиям… Кажется, что он случайно бросает слова, но они падают каждое на свое место. Это удивительно! Сергей Носов тоже великолепен… Он меня поразил необычной привязкой к деталям, очень точным деталям, фиксирующим заключенное в тексте время лучше любой фигуры описания. Мне прежде казалось, что подобные привязки вредят тексту — уходит время, породившее эти мелочи, и уносит с собой автора в небытие. Сергей Носов на примере собственной версии письма разубедил меня в этом — его книги со всеми их бытовыми деталями живее живых. Он описывает, например, Сенную площадь 90-х, которая была сплошным блошиным рынком. Самому уже всего не вспомнить, поскольку действительность превосходит размеры нашей памяти, а, оказывается, там продавали даже перегоревшие лампочки. С какой целью? Человек брал их за копейки, но, приходя на казенную службу, он мог вывинтить действующую лампочку, а на ее место поставить перегоревшую. Мол, сдохла на работе. И в итоге становился обладателем полезной вещи. Вот такие мелочи я и имею в виду. Кроме того, Носов хорошо строит фабулу. Есть и другие достойные авторы: Коровин, Бояшов, Пелевин, Шаров. Ряд можно продолжить.
— Если вам нравится книга, у вас не возникает потребности тут же сесть за письменный стол?
— Хорошая книга, безусловно, вызывает желание достойно ей ответить и в свою очередь потрясти небеса. То есть, речь не о какой-то полемике — слово «полемика» происходит от греческого «полемос» — «война», просто любой акт творения, достойный этого слова, как брошенный в воду камень, пускает по кругу волну. Словом, чужая хорошо сделанная книга, а порой даже и не книга — западающая на сердце песня, хорошей ковки нож — дает импульс для производства собственного изделия духа.
— Нужно ждать вдохновения? Или работать по плану — например, четыре страницы в день.
— Пожалуй, вдохновение — это штука из романтического арсенала позапрошлого века, любившего противопоставлять творца и толпу. Оно есть, наверное, но природа его прозаичнее и обнаруживает себя оно, как правило, когда ты прерываешь вынужденное молчание: хотелось сесть за письменный стол, а не было возможности. В тебе копится, копится желание распирающего тебя высказывания, рано или поздно оно достигает критической массы — и тогда может случиться самопроизвольный выплеск. Но каждый день писать, да еще так неудержимо, не получается. Да и не нужно — в конце концов, если все время писать, то когда жить?
Я отношусь к письму, как к отвечающей моей природе самоизбранной обязанности, это моя форма организации досуга. В принципе, досуг можно проводить как угодно: выпиливать лобзиком, скажем. Извините за банальный пример. И писательство как способ самореализации в этом смысле ничем не лучше, нежели вязание крючком. И никаких обольщений я по этому поводу не испытываю.
— Ведете ли вы дневник?
— Нет. У меня были какие-то записные книжки, сейчас уже фактически пропавшие. Иногда что-то приходит в голову, я записываю. Но эти книжки не носят и не носили характер дневниковых записей, они — для внезапной, ускользающей мысли, на лету подмеченного образа, каких-то заметок по ходу жизни, которые впоследствии могут пригодиться, а могут и не пригодится для досужей работы.
— Можно сказать, что ваши книги автобиографичны, хотя бы отчасти?
— В буквальном смысле — нет. В моем случае, между событием в тексте, рассказчиком и автором существует связь не внешнего, а внутреннего свойства. Есть разные авторы, скажем, Лимонов откровенно пишет книги с себя самого, не рассчитывая на грядущих евангелистов. Авторов с таким типом письма сейчас много. Новая искренность называется… Как будто есть искренность старая. Но для того чтобы писать подобным образом, нужно построить свою жизнь так, чтобы сделать ее достойной литературного произведения, то есть завязать ее лихим и порой довольно болезненным узлом — ведь литература не только делает нам приятно, но и больно ранит, оставляя на душе фантомные рубцы. Надо собственную жизнь выстроить, как авантюрный роман. Лимонов этим и занят. Его жизнь — действительно сплошной авантюрный роман, следовательно, ему есть, что описывать. Если хочешь делать книгу на основе собственной судьбы, если хочешь видеть себя героем книги, то стань героем и в жизни.
— Многие считают, что главное в литературном произведении — главная тема, послание автора. Каково ваше послание?
— А каково, скажите мне, послание Гомера? Задача былинного певца, сказочника — удержать внимание слушателя, после чего вдохнуть фимиам его благодарности. Послание стали искать в художественном тексте в литературоцентричном обществе, где в авторе хотели разглядеть уже и проповедника, и публициста, и учителя жизни. Но, допустим, что так и есть, и литературное произведение теперь, помимо занимательности, обязано нести и бремя послания. Допустим. Но в любом случае авторское послание в прозе отличается от авторского послания в публицистике и проповеди. У литературы есть свои законы художественного, свой инструментарий, и своя территория — область символического. Поэтому ясно, что, скажем, наставление юношеству о необходимости уступать место старшим в трамвае, в публицистике выглядит иначе, чем в художественной литературе. Если допустить, конечно, что литература должна юношество в подобных вещах наставлять. Допустили. Но в этом случае необходимо, чтобы читатель как бы сам пришел к твоему выводу, благодаря ряду событий, которые его к нему подводят. Поэтому послание, даже если оно есть, не всегда очевидно. Сформулировать в двух словах свое послание я не в силах. Похоже, оно чудесным образом превосходит мое собственное разумение. Возможно, дело в том, что никогда нельзя сказать в одной книге все, что имеешь сказать, приходится чем-то жертвовать, иначе текст разрастется в нечто неподъемное. А это — неуважение по отношению к читателю. В итоге, то, что пришлось принести в жертву в одной книге, прорастает главной темой в другой. Например, в романе «Укус ангела» я принес в жертву положительного героя, а в следующем романе «Бом-бом», сплошь царит положительный герой — это в отношении персоналий и то же в отношении идей. Так что полноценное послание оказывается вплетенным в пространство сразу нескольких книг, что, конечно, затрудняет его дешифровку.
— Чем, по-вашему, писатель отличается от графомана?
— Писатель отличается от графомана возможностью повторного взгляда на результат своего труда. И тот, и другой в процессе работы находятся под очарованием своего текста, поскольку он, текст, в значительной мере пребывает еще в их головах в форме, так сказать, эйдоса — идеального замысла о вещи. И этот идеальный замысел пылает у автора внутри, как блистающий фейерверк, переполняет его чувствами и эмоциями и страшно ему нравится. Однако проекция эйдоса на материальный мир всегда уступает идеальному образцу. Поэтому через некоторое время, писатель заглядывает в свой текст и думает: «Боже, что же это такое?! Ведь это все не то, не то, не то…» И начинает кропотливо переписывать, уточнять, вычеркивать, потому что все действительно не то и не так. А графоман не способен на этот благодатный повторный взгляд. Когда бы он не обратился к своему тексту, он всегда видит тот блистающий фейерверк, который сиял ему в форме идеального замысла. Но никто, кроме него, увы, разглядеть это сияние не в силах.
— Некоторые авторы пишут, а потом не хотят даже перечитать свою книгу. Мол, написал, освободился и все тут. Вы не из таких?
— Я тоже практически никогда не перечитываю изданную книгу, потому что мне ее хватило, пока я над ней работал. Перечитывал, вычеркивал, шлифовал, проходился тонкой шкурочкой по всему тексту, чтобы не было зазоров. Но если ты что-то написал и не хочешь вернуться к этому, чтобы поправить очевидные ошибки, мне кажется, это непрофессионально. Или же наоборот это выдает в тебе не художника, а скажем, писца-профессионала: вот ты сделал текст, и больше тебя ничего не интересует, будет редактор править — пожалуйста. «Доделывайте что-то, если хотите, а я — все, условия договора выполнил, отработал свой гонорар». Но если ты делаешь книгу, потому что тебе просто нужно ее сделать, ты испытываешь в этом внутреннюю потребность, тогда, безусловно, тебе необходимо к рукописи постоянно возвращаться. Твоя задача — сделать ее безупречной, так, чтобы удивить мир с первого предъявления.
— Есть какой-то критерий точки? В какой момент вы осознаете, что книга завершена, и улучшать ее не имеет смысла?
— В принципе, любую книгу можно улучшать до бесконечности, стремясь к идеальному тексту, но одновременно следует понимать, что это ловушка, это конец пишущего, ты в этом тексте тонешь, ты обречен. Надо найти в себе силы, чтобы сказать: «Довольно, лучшее — враг хорошего. Новый текст будет совершеннее, а этот пусть остается таким, какой он есть». У разных людей, впрочем, разные критерии и формулировки. И все же, когда ты видишь, что уже сказал то, что хотел сказать, изобразил то, что хотел изобразить — остановись. Можно было бы что-то уточнить, вставить еще пару шикарных образов, которые еще витают, неоформившиеся, но ты понимаешь, что, в принципе, книга и так сделана, из нее не торчат хвосты, все узелки подвязаны, все вроде бы подрублено и подшито — можно шлифовать бесконечно, но хватит, а то залакируешь. Существует такая аналогия: китайские мастера, вышивая драконов по шелку, всегда оставляли что-то недоделанным — хоть один незавершенный стежок — потому что недоделанный дракон не может ожить. То есть какая-то небольшая недоработка должна оставаться в вещи, чтобы она не воплотилась в реальность.
— Когда вы только начинаете работу над книгой, хочется ли поделиться замыслом с друзьями-товарищами?
— Поначалу это было. Когда еще не до конца уверен в своих силах. Ведь ты еще ничего не сделал, не получил некоего условного признания, и тебе хочется заручиться мнением, что все-таки это можно читать, что это кому-то, кроме тебя самого, может быть интересно. Но со временем нужда в такой подстраховке проходит, ты понимаешь, что, да, ты умеешь и можешь делать свое дело, поэтому показывать половину работы не стоит. Нужно показать всю работу.
— Чья оценка важнее на первом этапе работы?
— У меня есть сложившийся круг друзей. Оказалось, что многие из них тоже дружат с пером. Или же они профессионалы в какой-то другой области, не чуждой стихии слова. Я, например, очень ценю вкус и дорожу оценкой Александра Секацкого, это мой добрый друг, и при том философ. Его оценки очень точны, доказательны, хорошо аргументированы. В кругу каждого писателя есть люди, мнению которых он особенно доверяет. После разговора с такими людьми я буду продолжать работу над текстом, стараясь понять, почему они споткнулись на том или ином месте. Иногда приходится даже исправлять действие — это не касается изменения образа, просто ты понимаешь, что надо, например, добавить персонажу рельефности. Текст — это же пластичная вещь, ее, если что, можно немного перелепить — и она заиграет.
— Вы пишите сразу на компьютере?
— Честно говоря, я долго держался старых правил и писал от руки, впоследствии забивая написанное в компьютер. Сейчас стучу прямо на клавиатуре, но на экране многие мелочи не заметны, поэтому основная правка всегда делается по распечатанному тексту. На бумаге совершенно по-другому видишь и схватываешь текст. Более, что ли, пронзительно.
— У Оскара Уайльда есть афоризм: «Нет книг нравственных или безнравственных. Есть книги или хорошо написанные, или написанные плохо. Вот и все». Можете прокомментировать?
— В принципе, я с этим согласен. Не дело художника бояться смутить малых и сирых. Потому что если ты боишься смутить их, ты сам становишься малым и сирым. В искусстве царит эстетика. И свобода. Это ее территория. Или это не искусство. И этика очень часто приносится тут жертву. В конце концов, Каин — прародитель всех играющих на флейте, как известно…
— Хочется надеяться, что с помощью творчества можно сделать мир лучше…
— Честно говоря, не верю в то, что мир можно изменить художественными средствами. Только тумаком и лаской. Это, конечно, хорошо, когда человек под обаянием того или иного прекрасного произведения искусства пребывает хотя бы два дня. Это хорошо, но радикально, надолго, навсегда этим мир не переделать. Как показывает практика, люди в жизни довольно часто могут вообще обходиться без искусства, и делают это довольно успешно. На плодовитости это точно не сказывается.
— Считаете ли вы, что книги отвлекают от жизни? Человек прячется от жизни, углубившись в книгу…
— Хорошо это или плохо?.. Конечно, нельзя жить только одними книгами. Я считаю, что истинный опыт чувств мы получаем все-таки только от жизни. Книга должна приучать мыслить, приучать смотреть на событие не с одного привычного ракурса, а дать еще какой-то другой. Но книга никогда не заменит жизнь. И не должна этого делать. Как не должна прекрасная греза заслонить не всегда приглядную действительность.
— Сейчас очень многие люди пишут стихи. Интернет-ресурсы переполнены современной поэзией. Почему же поэзию не издают и не покупают?
— Это для меня загадка. С точки зрения издательского прагматизма — да, поэзия, в сравнении с прозой, продается очень небольшими тиражами. Мне трудно сказать, кто здесь виноват — поэты или читатели. Поэзию никто не загоняет в угол, пожалуйста, в магазинах есть поэтические книги, пусть многие и выпущены за скудные средства автора, по клубам проходят поэтические выступления, фестивали, слэмы, народу приходит много. Правда, это довольно самодостаточная тусовка — поэты приходят на вечера поэтов, потому что если они не придут, то потом не придут и к ним. Может быть так. С другой стороны, возможно, сейчас фаза такая — не поэтическая. В 60-е годы поэты собирали залы, какие теперь собирают юмористы. Это было до поры, пока не пришел рок-н-ролл. Рок-н-ролл собирал стадионы, а теперь группы, которые соберут стадион, можно по пальцам пересчитать — теперь стадионы отданы попсе, а рок-н-ролл, как поэзия, ушел в клубы, в подвалы. Наверное, происходит смена доминирующего художественного жеста. Ведь и проза теперь вовсе не так властвует над умами, как было это еще полвека назад.
— Может ли случится, что книги рано или поздно исчезнут? Их место займут портативные электронные носители?
— Книга, как таковая, никуда не исчезнет, возможно, она будет не так тотальна, как раньше. Даже наверняка не будет такой — гаджеты, конечно, потеснят книгу, как книга некогда потеснила свитки, но в качестве предмета роскоши книга непременно сохранится. Причем в своих самых богатых формах — в бархатных и кожаных переплетах, сверкая золочеными обрезами.
— Недавно вышла Ваша новая книга «Мертвый язык». Как долго Вы над ней работали?
— С момента выхода прошлой книги до выхода «Мертвого языка» прошло два года. Но поскольку писалась она не ежедневно, а от случая к случаю, с паузами и отвлечениями на основную работу, на личную жизнь и какие-то побочные дела, то сосчитать, сколько чистого времени я затратил непосредственно на написание романа, не представляется возможным.
— Успели полюбить героев? Кто особенно дорог и почему?
— Всех героев в данном случае автор вытаскивал из себя. Стало быть, говоря о любви к героям, придется говорить о любви к себе, а себя я не очень люблю, ибо грешен, гневлив и подвержен лени.
— Что самое главное для Вас, как автора, в этой книге?
— Попытка озвучить стихию, дать слово нечеловеческой силе, превращающей наш мир в пестрящую пустыми фантиками выгребную яму.