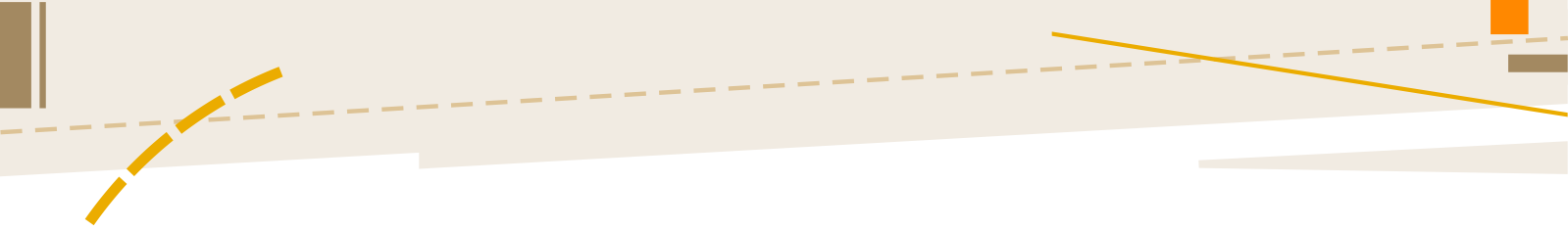Одна из самых успешных и узнаваемых среди современных российских поэтов. Фактически вернула поэзии былую популярность, и возродила традиции поэтических вечеров. Разве можно было представить, что в начале XXI века поэт будет собирать тысячные залы и продавать свои сборники тиражами в десятки тысяч экземпляров? У Веры это получилось!
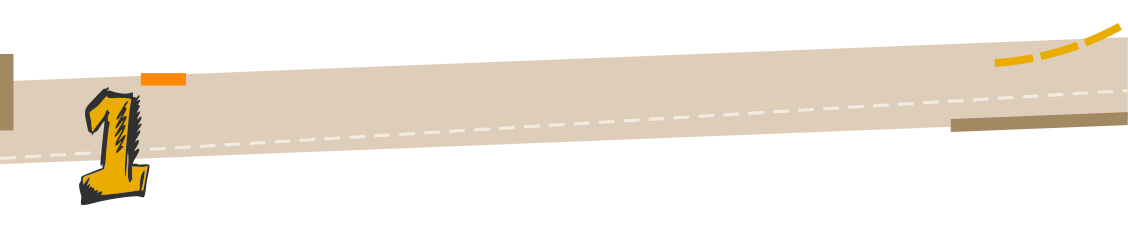
Простая история
Хвалю тебя, говорит, родная, за быстрый ум и веселый нрав.
За то, что ни разу не помянула, где был неправ.
За то, что все люди груз, а ты антиграв.
Что Бог живет в тебе, и пускай пребывает здрав.
Хвалю, говорит, что не прибегаешь к бабьему шантажу,
За то, что поддержишь все, что ни предложу,
Что вся словно по заказу, по чертежу,
И даже сейчас не ревешь белугой, что ухожу.
К такой, знаешь, тете, всё лохмы белые по плечам.
К ее, стало быть, пельменям да куличам.
Ворчит, ага, придирается к мелочам,
Ну хоть не кропает стишки дурацкие по ночам.
Я, говорит, устал до тебя расти из последних жил.
Ты чемодан с деньгами – и страшно рад, и не заслужил.
Вроде твое, а все хочешь зарыть, закутать, запрятать в мох.
Такое бывает счастье, что знай ищи, где же тут подвох.
А то ведь ушла бы первой, а я б не выдержал, если так.
Уж лучше ты будешь светлый образ, а я мудак.
Таких же ведь нету, твой механизм мне непостижим.
А пока, говорит, еще по одной покурим
И так тихонечко полежим.
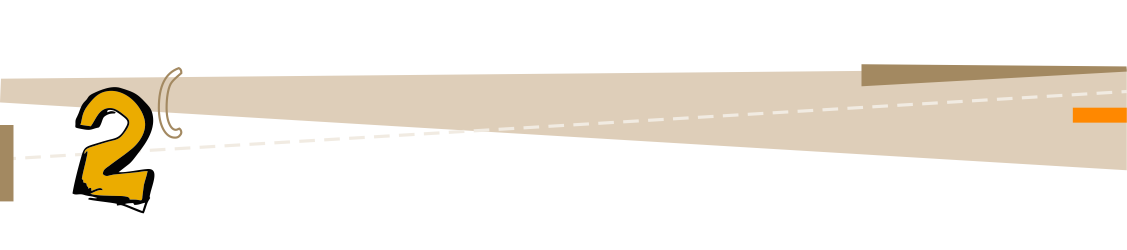
Ноябрьское
Он вышел и дышит воздухом, просто ради
Бездомного ноября, что уткнулся где-то
В колени ему, и девочек в пестрых шапках.
А я сижу в уголочке на балюстраде
И сквозь пыльный купол милого факультета
Виднеются пятки Бога
В мохнатых тапках.
И нет никого. И так нежило внутри,
Как будто бы распахнули брюшную полость
И выстудили, разграбили беззаконно.
Он стягивает с футболки мой длинный волос,
Задумчиво вертит в пальцах секунды три,
Отводит ладонь и стряхивает с балкона.
И все наши дни, спрессованы и тверды,
Развешены в ряд, как вздернутые на рею.
Как нить янтаря: он темный, густой, осенний.
Я Дориан Грей, наверное – я старею
Каким-нибудь тихим сквериком у воды,
А зеркало не фиксирует изменений.
И все позади, но под ободком ногтей,
В карманах, на донцах теплых ключичных ямок,
На сгибах локтей, изнанке ремней и лямок
Живет его запах – тлеет, как уголек.
Мы вычеркнуты из флаеров и программок,
У нас не случится отпуска и детей
Но – словно бинокль старый тебя отвлек –
Он близко – перевернешь – он уже далек.
Он вышел и дверь балконную притворил.
И сам притворился городом, снизив голос.
И что-то еще все теплится, льется, длится.
Ноябрь прибоем плещется у перил,
Размазывает огни, очертанья, лица –
И ловит спиной асфальтовой темный волос.
13 ноября 2005 года.
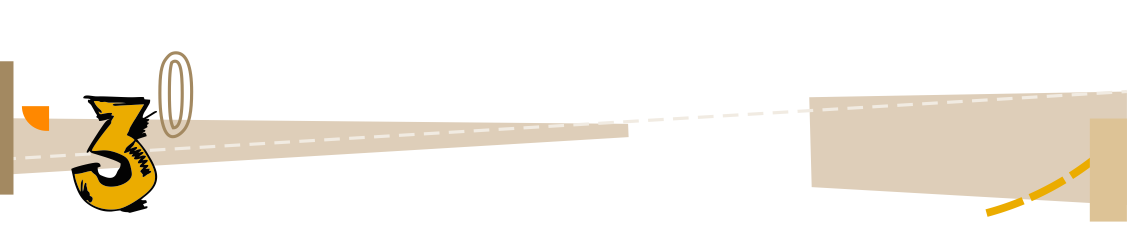
Челка
Это последний раз, когда ты попался
В текст, и сидишь смеешься тут между строк.
Сколько тебя высасывает из пальца –
И никого, кто был бы с тобою строг.
Смотрят, прищурясь, думают – somenepoemaniehing’s wrong here:
В нем же зашкалит радостью бытия;
Скольким еще дышать тобой, плавить бронхи,
И никому – любить тебя так, как я.
День мерить от тебя до тебя, смерзаться
В столб соляной, прощаясь; аукать тьму.
Скольким еще баюкать тебя, мерзавца.
А колыбельных петь таких – никому.
Челку ерошить, ворот ровнять, как сыну.
Знать, как ты льнешь и ластишься, разозлив.
Скольким еще искать от тебя вакцину –
И только мне ее продавать в розлив.
Видишь – после тебя остается пустошь
В каждой глазнице, и наступает тишь.
«Я-то все жду, когда ты меня отпустишь.
Я-то все жду, когда ты меня простишь».
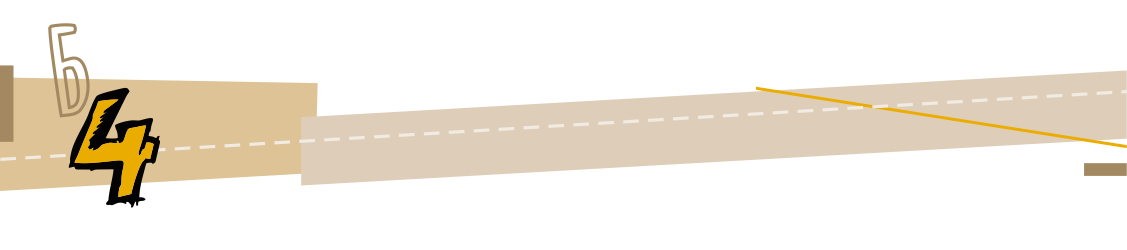
* * *
Манипенни, твой мальчик, видно, неотвратим, словно рой осиный,
Кол осиновый; город пахнет то мокрой псиной,
То гнилыми арбузами; губы красятся в светло-синий
Телефонной исповедью бессильной
В дождь.
Ты думаешь, что звучишь даже боево.
Ты же просто охотник за малахитом, как у Бажова.
И хотя, Манипенни, тебя учили не брать чужого –
Объясняли так бестолково и так лажово, —
Что ты каждого принимаешь за своего.
И теперь стоишь, ждешь, в каком же месте проснется стыд.
Он бежит к тебе через три ступени,
Часто дышит от смеха, бега и нетерпенья.
Только давай без глупостей, Манипенни.
Целевая аудитория
не простит.
10 сентября 2007 года
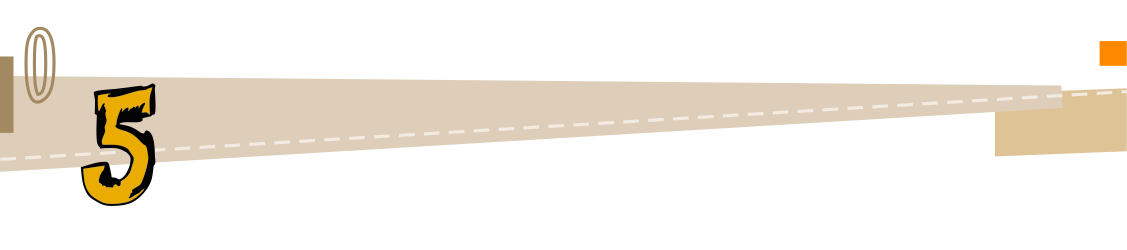
Благовест
В этой мгле ничего кромешного нет –
Лишь подлей в нее молока.
В чашке неба Господь размешивает
Капучинные облака.
В этом мае у женщин вечером
Поиск: чье ж это я ребро?
Я питаюсь копченым чечилом.
Сыр – и белое серебро.
Этот город асфальтом влагу ест
Будто кожей. А впереди
Тетя встала послушать благовест,
Что грохочет в моей груди.
Ночь с 14 на 15 мая 2005 года.
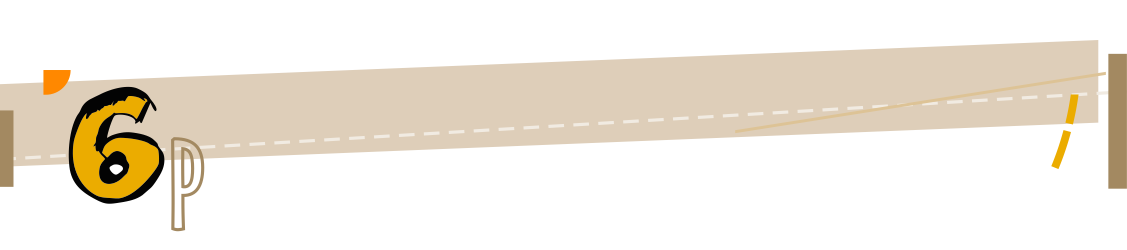
Стишище
А факт безжалостен и жуток,
как наведенный арбалет:
приплыли, через трое суток
мне стукнет ровно двадцать лет.
И это нехреновый возраст –
такой, что Господи прости.
Вы извините за нервозность –
но я в истерике почти.
Сейчас пойдут плясать вприсядку
и петь, бокалами звеня:
но жизнь у третьего десятка
отнюдь не радует меня.Не то[ркает]. Как вот с любовью:
в секунду — он, никто другой.
Так чтоб нутро, синхронно с бровью,
вскипало вольтовой дугой,
чтоб сразу все острее, резче
под взглядом его горьких глаз,
ведь не учили же беречься,
и никогда не береглась;
все только медленно вникают –
стой, деточка, а ты о ком?
А ты отправлена в нокаут
и на полу лежишь ничком;
чтобы в мозгу, когда знакомят,
сирены поднимали вой;
что толку трогать ножкой омут,
когда ныряешь с головой?
Нет той изюминки, интриги,
что тянет за собой вперед;
читаешь две страницы книги –
и сразу видишь: не попрет;
сигналит чуткий, свой, сугубый
детектор внутренних пустот;
берешь ладонь, целуешь в губы
и тут же знаешь: нет, не тот.
В пределах моего квартала
нет ни одной дороги в рай;
и я устала. Так устала,
что хоть ложись да помирай.
Не прет от самого процесса,
все тычут пальцами и ржут:
была вполне себе принцесса,
а стала королевский шут.
Все будто обделили смыслом,
размыли, развели водой.
Глаз тускл, ухмылка коромыслом,
и волос на башке седой.А надо бы рубиться в гуще,
быть пионерам всем пример –
такой стремительной, бегущей,
не признающей полумер.
Пока меня не раззвездело,
не выбило, не занесло –
найти себе родное дело,
какое-нибудь ремесло,
ему всецело отдаваться –
авось бабла поднимешь, но –
навряд ли много. Черт, мне двадцать.
И это больше не смешно.Не ждать, чтобы соперник выпер,
а мчать вперед на всех парах;
но мне так трудно делать выбор:
в загривке угнездился страх
и свесил ножки лилипутьи.
Дурное, злое дежавю:
я задержалась на распутье
настолько, что на нем живу.
Живу и строю укрепленья,
врастая в грунт, как лебеда;
тяжелым боком, по-тюленьи
ворочаю туда-сюда
и мню, что обернусь легендой
из пепла, сора, барахла,
как Феникс; благо юность, гендер,
амбиции и бла-бла-бла.
Прорвусь, возможно,
как-нибудь я,
не будем думать о плохом;
а может, на своем распутье
залягу и покроюсь мхом
и стану камнем (не громадой,
как часто любим думать мы) –
простым примером, как не надо,
которых тьмы и тьмы и тьмы.Прогнозы, как всегда, туманны,
а норов времени строптив —
я не умею строить планы
с учетом дальних перспектив
и думать, сколько Бог отмерил
до чартера в свой пэрадайз.
Я слушаю старушку Шерил –
ее nepoemanieomorrow Never Dies.Жизнь – это творческий задачник:
условья пишутся тобой.
Подумаешь, что неудачник –
и тут же проиграешь бой,
сам вечно будешь виноватым
в бревне, что на пути твоем;
я в общем-то не верю в фатум –
его мы сами создаем;
как мыслишь – помните Декарта? –
так и живешь; твой атлас – чист;
судьба есть контурная карта –
ты сам себе геодезист.
Все, что мы делаем – попытка
хоть как-нибудь не умереть;
так кто-то от переизбытка
ресурсов покупает треть
каких-нибудь республик нищих,
а кто-то – бесится и пьет,
а кто-то в склепах клады ищет,
а кто-то руку в печь сует;
а кто-то в бегстве от рутины,
от зуда слева под ребром
рисует вечные картины,
что дышат изнутри добром;
а кто-то счастлив как ребенок,
когда увидит, просушив,
тот самый кадр из кипы пленок –
как доказательство, что жив;
а кто-нибудь в прямом эфире
свой круглый оголяет зад,
а многие твердят о мире,
когда им нечего сказать;
так кто-то высекает риффы,
поет, чтоб смерть переорать;
так я нагромождаю рифмы
в свою измятую тетрадь,
кладу их с нежностью Прокруста
в свою строку, как кирпичи,
как будто это будет бруствер,
когда за мной придут в ночи;
как будто я их пришарашу,
когда начнется Страшный суд;
как будто они лягут в Чашу,
и перетянут, и спасут.
От жути перед этой бездной,
от этой истовой любви,
от этой боли – пой, любезный,
беспомощные связки рви;
тяни, как шерсть, в чернильном мраке
из сердца строки – ох, длинны!;
стихом отплевывайся в драке
как смесью крови и слюны;
ошпаренный небытием ли,
больной абсурдом ли всего –
восстань, пророк, и виждь, и внемли,
исполнись волею Его
и, обходя моря и земли,
сей всюду свет и торжество.
Ты не умрешь: в заветной лире
душа от тленья убежит.
Черкнет статейку в «Новом мире»
какой-нибудь седой мужик,
переиздастся старый сборник,
устроят чтенья в ЦДЛ –
и, стоя где-то в кущах горних,
ты будешь думать, что – задел;
что достучался, разглядели,
прочувствовали волшебство;
и, может быть, на самом деле
все это стоило того.
Дай Бог труду, что нами начат,
когда-нибудь найти своих,
пусть все стихи хоть что-то значат
лишь для того, кто создал их.
Пусть это мы невроз лелеем,
невроз всех тех, кто одинок;
пусть пахнет супом, пылью, клеем
наш гордый лавровый венок.
Пусть да, мы дураки и дуры,
и поделом нам, дуракам.
Но просто без клавиатуры
безумно холодно рукам.
27-28 февраля 2006 года.
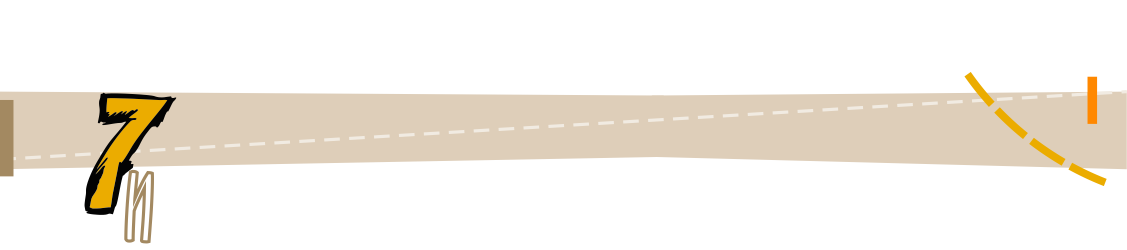
LASnepoemanie SUMMER EVENING
Друг друговы вотчины – с реками и лесами,
Долинами, взгорьями, взлетными полосами;
Давай будем без туристов, а только сами.
Давай будто растворили нас, погребли
В биноклевой мгле.
Друг друговы корабли.
Бросаться навстречу с визгом, большими псами,
Срастаться дверьми, широтами, адресами,
Тереться носами,
Тросами,
Парусами,
Я буду губами смугло, когда слаба,
Тебя целовать слегка в горизонтик лба
Между кожей и волосами.
В какой-нибудь самой крошечной из кают,
Я буду день изо дня наводить уют,
И мы будем слушать чаечек, что снуют
Вдоль палубы, и сирен, что из вод поют.
Чтоб ветер трепал нам челки и флаги рвал,
Ты будешь вести, а я отнимать штурвал,
А на берегу салют чтоб и карнавал.
Чтоб что-то брать оптом, что-то – на абордаж,
Чтоб нам больше двадцати ни за что не дашь,
А соль проедает руки до мяса аж.
Чтоб профилем в синь, а курсом на юго-юг,
Чтоб если поодиночке – то всем каюк,
Чтоб двое форева янг, расторопных юнг,
И каждый задира, бес, баловник небес,
На шее зубец
Акулий, но можно без,
И каждый влюбленный, злой, молодой балбес.
В подзорной трубе пунктиром, едва-едва —
Друг друговы острова.
А Бог будет старый боцман, гроза морей,
Дубленый, литой, в наколках из якорей,
Молчащий красноречиво, как Билл Мюррей,
Устроенный, как герой.
Мы будем ему отрадой, такой игрой
Дельфинов или китят, где-то у кормы.
И кроме воды и тьмы нет другой тюрьмы.
И нету местоимения, кроме «мы».
И, трюмы заполнив хохотом, серебром
Дождливым московским – всяким таким добром,
Устанем, причалим, сядем к ребру ребром
И станем тянуть сентябрь как темный ром,
И тихо теплеть нутром.
И Лунья ладонь ощупает нас, строга —
Друг друговы берега.
И вечер перченым будет, как суп харчо.
Таким, чтоб в ресницах колко и горячо.
И Боцман легонько стукнет тебя в плечо:
— До скорого, брат, попутных. Вернись богатым.
И бриз в шевелюре будет гулять, игрив.
И будет назавтра ждать нас далекий риф,
Который пропорет брюхо нам, обагрив
Окрестную бирюзу нами, как закатом.
31 августа 2006 года.
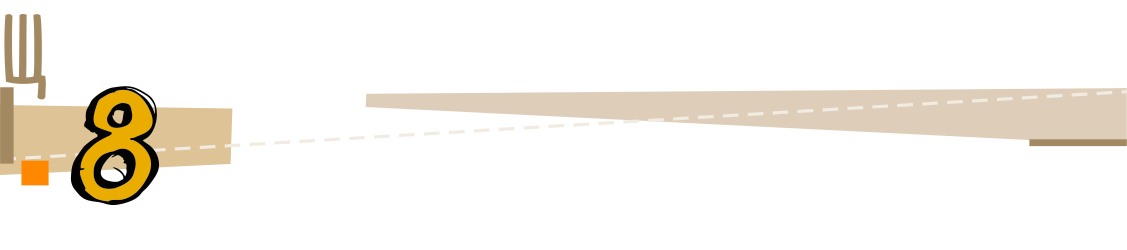
Про любовь
Посвящается юзеру susel_nepoemanieimes
Морозно, и наглухо заперты двери.
В колонках тихонько играет Стэн Гетц.
В начале восьмого, по пятницам, к Вере,
Безмолвный и полный, приходит пиздец.
Друзья оседают по барам и скверам
И греются крепким, поскольку зима.
И только пиздец остается ей верным.
И в целом, она это ценит весьма.
Особо рассчитывать не на что, лежа
В кровати с чугунной башкою, и здесь
Похоже, все честно: у Оли Сережа,
У Кати Виталик, у Веры пиздец.
У Веры характер и профиль повстанца.
И пламенный взор, и большой аппетит.
Он ждет, что она ему скажет «Останься»,
Обнимет и даже чайку вскипятит.
Но Вера лежит, не встает и не режет
На кухне желанной колбаски ему.
Зубами скрипит. Он приходит на скрежет.
По пятницам. Полный. И сразу всему.
2 февраля 2007 года.
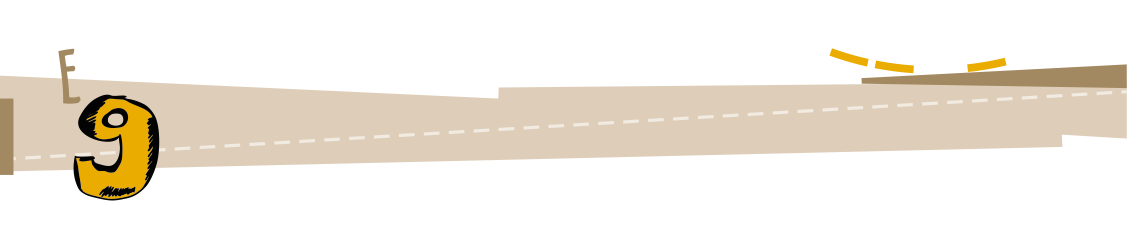
* * *
Утро близится, тьма все едче,
Зябче; трещинка на губе.
Хочется позвонить себе.
И услышать, как в глупом скетче:
— Как ты, детка? Так грустно, Боже!
— Здравствуйте, я автоответчик.
Перезвоните позже.
Куда уж позже.
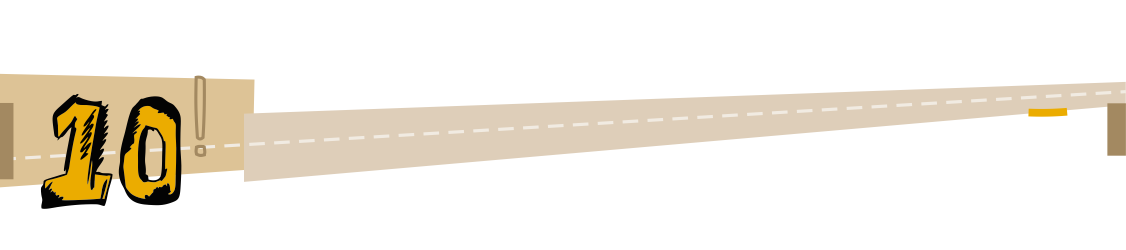
* * *
кури не целую, а то
врезает по башке.
смотри: тебя несёт никто
в своем сыром мешке,и это все — его шаги
и жар его спины:
твое вранье, твои долги,
твои дурные сны,настойчивая вонь беды,
черт бы её побрал,
и чувство, что не ты, не ты
все это выбирал:что это — рейсы, города, —
все кем-то решено:
привычка скалиться, когда
ни разу не смешнопривычка следовать тупой
рутине и ходьбе —
все не тобой, все не тобой
навязано тебеи эта затхлая тюрьма,
прилипчивая мгла —
наделась на тебя сама,
разделала дотланабилась в легкие, как пыль,
безвыходная ночь —
и делает тебя слепым,
чтоб дальше уволочь.ее немые главари
забрали этот край.
дыши, не бойся. говори.
сверяйся. вспоминай.вот верное, как финский нож,
предчувствие своих.
вот мать, уже седая сплошь,
и завтрак на двоих.
вот то, как ты себя вернешь,
как вырвешься от них.найдешь, что придавало сил,
узнаешь прежде всех
тот смех, который ты любил,
ее искристый смех.поедешь на трамвае, впредь
встречая изнутри
не «умереть» и «умереть».
но «мы» и «фонари».
22 июня 2019. Бордо