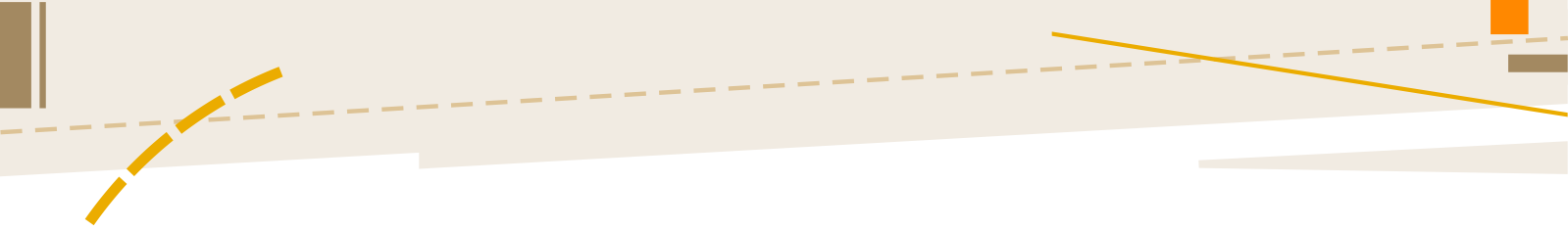Об Афганистане он вспоминать не хочет, за него говорят его картины, поражая почти толстовским трагизмом, сталкивающим войну с красотой и вечностью. А еще впечатляет гигантский мак, входящий в арку, построенную еще при Александре Македонском, и вызывающий ощущение пряного ада — невинный цветок, ставший символом мирового зла.
Что бы ни писал Сергей Опульс — горы, верблюдов, мощные носы военных самолетов, ржавые якоря, мечтательные парусники, закат над Питером — всюду восхищает его фирменный солнечный цвет. То ли в Ташкенте он его нашел, то ли в песках Центральной Азии, то ли взял из наших северных зорь.
Из статьи Ирины Дудиной «Тяжела ты, шапка монаха» («На Невском», ноябрь 2010)

Вопросы задавал Тимур Мамонов, корреспондент Первого канала.
— В Центре реабилитации инвалидов войны мы познакомились с Вашими картинами. Там картины висят душевные, с явным восточным колоритом…
— Как говорят на Востоке, надо окунуться в глубину, чтобы со временем с расстояния написать. Лицом к лицу лица не увидать. Проходит время, и с расстояния начинаешь больше и лучше видеть. Все фронтовики писали свои лучшие вещи, спустя двадцать-тридцать лет после войны. Они проходили войну, потом двадцать лет эти переживания укладывались и перекладывались, а потом получалось произведение, которое становилось шедевром.
Мне всегда нравилась авиация. Я с детства занимался авиамоделизмом, клеил модели, самолетики. Я учился в школе при Туркестанском военном округе, в которой учились дети офицеров. Все увлекались самолетами, конструировали. Так школьное увлечение вылилось в настоящую авиацию.
— Как стали штурманом?
— Я очень хотел летать, сам хотел. Мне очень нравилась география, мне очень нравилось небо. Мне не хотелось бегать по горам, как мои одноклассники, которые поступали в училище горной пехоты, хотелось, чтобы машина меня носила, чтобы летал.
— Как Вас обозначить?
— Опульс — Художник. Понимаете, это моя основная профессия, это мое призвание. А все остальное — штурман, вертолет — это дополнение к призванию. Как говорят на Востоке — нужно видеть главное. Для меня главное — это художественное творчество. Пускай это будет живопись, скульптура, декоративные вещи, но главное — воплощение художественным языком.

(2006, холст, масло, 70 x 120 см)
— А по первой профессии Вы кто?
— Я закончил Ташкентское художественное училище по классу живописи. Это и была моя первая профессия. Но мне хотелось самого себя испытать, как говорят на Востоке, пока сам себя не попробуешь, не узнаешь, кто ты такой. Мне хотелось узнать себя, потому что мои предки были все служивые люди — служили России. По отцовской линии мои предки не только строили заводы в голой степи, но и служили в сопровождении генерала Духонина. И когда Николай II отрекся от престола, генерала Духонина и его начальника караула Петра Павлова — моего прадеда — зарубили шашками красные матросы. Прадед Петр Павлов начинал есаулом, а потом дорос до полковника. Поэтому для меня дело чести — служить своей стране. Долг отдать — это святое дело. Если ты живешь в этой стране и любишь ее, я считаю, ты должен отдать свой долг не жалея живота своего, а честь остается всегда с тобой, как говорил Суворов.
— Как Вы попали в Афганистан, сколько были там?
— По окончанию училища меня призвали в армию, точнее — я сам туда пошёл. Некоторые молодые люди уклоняются от армии, пускаются в бега, покупают справки, даже в дурдом попадают, только бы не идти служить. А я знал, что мои предки служили в Вооружённых силах, прошли фронты Великой Отечественной, поэтому для меня святым делом было пойти в армию. И хотя по своим заболеваниям я был не годен к строевой службе, но пошёл и отслужил. Я должен был сам себе доказать, что смогу выдержать все трудности. Я был в Афганистане меньше года, но готовился больше, чем два года. Я учился в Самарканде в вертолетном училище. Это было одно из лучших заведений, в котором готовили именно горную авиацию. Есть авиация морская, горная, равнинная — степная. Именно в Самарканде практиковался полет на Памире, на Гиндукуше. Именно эти горные перепады. Это очень опасно, потому что если машина поднимается на четыре тысячи метров и сядет где-то в горах, то машина уже не поднимется, она уже винтами не зацепится. Это мертвый якорь. Надо уметь машину не посадить, но улететь вовремя. Это высокий класс пилотирования.
— А война в Афганистане, Вы вовремя вышли?
— Я считаю, слава Богу, это Бог меня хранил. Я считаю, что все люди, которые прошли войну и остались целыми, это божьи люди. Они все поверили в Бога. Кто не видел окоп, то не может не верить в Бога. Это говорили русские, когда еще с турками воевали.

— Если сравнивать Чечню и Афган, в чем разница между той и другой войной?
— Не надо смешивать, это совершенно разные вещи. Когда была война в Афганистане, это была цельная страна — СССР, и мы воевали, в принципе, с НАТО. А Чечня — это внутренний конфликт, который был закручен спецслужбами других стран внутри нашей страны, чтобы разорвать великую страну. Война с Афганистаном вызывает прямую ассоциацию с Советским Союзом. Еще одна такая же закрытая война — война во Вьетнаме, которая шла очень долго с 1947 года до 1974. Я встречал наших русских летчиков, которые воевали во Вьетнаме, вертолетчики тоже были. Про эту войну мы практически ничего не знаем, даже не сравнить с тем, что мы знаем про Афган, и даже про Чечню.
— Вы можете сказать, что война меняет человека?
— Она делает человека лучше. Человек на войне понимает цену жизни и цену времени. Человек понимает, что время человеческой жизни дано для того, чтобы жить по призванию. Я много встречал ребят, которые должны были уже идти на зону за хулиганство, разбой, насилие, драки. Они шли в Афган, начинали как распальцованные урки. Проходили бои и менялись. Возвращались на гражданку, заканчивали вузы и совсем менялись, становились порядочными людьми. Я только за речкой понял, что должен быть художником. Надо жить свою жизнь, а здесь в России очень много людей живут не свою жизнь, не в своей профессии. Они пошли в институт по стандарту, отучились, а потом они понимают, что жизнь — вон там. А вернуться туда, откуда они пришли, им сложно. Они сами начинают мучиться, жить не свою жизнь и мучить людей вокруг себя.
— Можно сказать, что Вы благодарны Афганской войне?
— Я благодарен, что нашел себя и нашел свою профессию. Благодаря тому, что я там был, я утвердился в себе, что могу писать картины.
Я служил в Афганистане в вертолётных войсках особого назначения: мы занимались радиоразведкой. Ещё штатским я закончил вертолётную школу в Самарканде. Вообще служба в Афганистане очень сильно на меня повлияла. На Афганской войне у меня как-то «растворились» все принципы, но остались ценности. Принципы-то могут поменяться с возрастом, а ценности — вечны. А еще на войне я понял, что очень зримо виден Божий промысел. Один мой товарищ тоже летал на «вертушке», карты рисовал. Как-то он уже сел в машину, а комбат вдруг говорит: «Вылезай»… «Вертушка» улетела без него и под Кандагаром разбилась, в дым, там людей не нашли. Вот такой перст судьбы…

(2010, холст, масло, 97 x 77 см)
— Как получается так, что прошло уже больше двадцати лет, а у Вас все так живо на картинах?
— Понимаете, в экстриме ты что-то видишь, переживаешь, потом это перерабатывается, временем перемалывается, и ты начинаешь писать гораздо лучше, чем ты видел. Так получается искусство.
— Обычно столько много солнца в Ваших картинах…
— Я родился на 60-й широте, в Ташкенте, Мадрид, Нью-Йорк — это одна широта. И в Испании, и в Америке солнца много, и в Ташкенте. Конечно, прожив в теплом климате тридцать лет-тридцать зим — получаешь другое восприятие солнечного света.
— Почему Вы переехали в Петербург?
— Мои предки переехали в Петербург, они были лучшие ювелиры страны — Рюкерты — у них единственных было клеймо собственное, которое Фаберже давал ставить на его изделия. Барон Рюкерт был лучшим ювелиром, который занимался перегородчатой эмалью, делал потиры, кубки, яйца пасхальные, конечно, не только церковные изделия, вообще, ювелирные.
Мой прадед Петр Иванович Павлов имел отношение к роду Кочубеев (особняк на Конногвардейском бульваре), а его супруга — моя прабабушка — наследница Рюккертов по прямой рода, дочь — ювелира Рюккерта. Я пробовал заниматься ювелирным делом, но мне тяжело заниматься этим, довольно-таки, женским кропотливым делом, нужно море терпения. Я больше живописью увлечен, мне она более интересна.
Мы живем в Петербурге, а Петербург — это тройка. Первый собор, который был построен — Троицкий. Есть три проспекта, расходящихся лучами из одного центра — Невский, Гороховая, Вознесенский, три сфинска, три порта, три острова. Я официально стал жителем Петербурга в 89 году, в этом году можно праздновать четверть века в Питере.

(2010, холст, масло, 75 x 90 см)
— У Вас и отец был художником?
Он так и не стал художником, жизнь его пошла в другом ключе — он занимался инженерией военно-морского флота, кабельным производством. Его завод производил кабель для подводных лодок, для ББК, крейсеров. И мой отец, и мой дед — они все рисовали. Мой отец рисовал, например, портрет моей матери, рисовал для себя, но не стал профессионалом. Но это не стало его профессией, профессия — это когда человек полностью живет одним делом. Невозможно в живописи не жить живописью, то есть писать картины и в то же время заниматься чем-то другим. Как говорил Суриков, живопись по совместительству невозможна. Заниматься живописью и еще чем-то другим. Даже декоративно-прикладным искусством можно, витражами, например, или еще чем-то, но не живописью. Ею нужно заниматься только ею.
— Но отец как-то повлиял на Вас как художник?
Батя повлиял, но как — смотрите сами. В любом искусстве на этой планете Земля, в любом искусстве — чувство вкуса дано от Бога. А чувство меры отрабатывается, например, в рисунке, где-то в лепке скульптуры, в живописи. Мера дается в учебе. Мера — чтобы не перебрать, чтобы не перекрутиться. А чувство вкуса — от Бога. Можно быть и художником, и поэтом, и писателем, и литератором — это чувство вкуса. И чувство вкуса тоже в живописи, это звенья одной цепи. Это чувство я получил от предков. И, конечно, я хотел жить в стране, где творили мои предки — русские ювелиры первого ряда Рюккерты.
— А что Вас вдохновляет — пейзажи, архитектура?
— Если возьмем пейзаж, то можно включить свое видение красоты. Как говорили великие живописцы, если ты сможешь природу написать лучше, чем она есть, какая она есть, тогда получается искусство. То есть, если ты сможешь ее сильнее выразить.

(2010, холст, масло, 65 x 45 см)
— Как проходит день художника?
Я пишу картины, а живопись — это такое круглосуточное действие. Дружба с живописью — круглосуточная. Можно рисовать эскизы днем и ночью, делать наброски, зарисовки. Какие-то свои нашлепки. Потом можно все собрать, раскрыть и написать холст. Потом можно заняться скульптурой, например, чтобы руки отдохнули от кистей. Живописец может быть скульптором, а скульптор никогда не может быть живописцем. Я читаю книги целыми днями тоже, прежде всего, духовного содержания, например, Дионисия. Или «Русская духовная живопись». Вы же знаете, что существуют только 4 православные страны — Греция, Сербия, Россия и Грузия. И до 1917 года считалось, что иконы можно писать только после монашеского пострига, а сейчас очень много икон пишут люди, которые живут в миру, то есть они живут с женами, занимаются табакокурением, винопитием и они пишут иконы. А иконы, они отражают подсознание на сто процентов. В иконе все видно, выходит вся суть человека. В живописи она проявляется. Если человек чистый, то и живопись чистая. А если человек недуховным образом живет, то живопись нагружена, это все выходит наружу и особенно видно в духовной живописи. В светской живописи не так видна духовная нагрузка, как в иконописи.
Если вернуться к теме дня художника, то просыпаюсь я рано. Я — утренняя птица. Как рассказывал Репин Илья Ефимович, лучшая живопись получается у него с 9 до 12 часов с утра. У каждого, конечно, свой психотип, свои часы, своя ментальность. Но мне тоже нравится заниматься живописью утром, в первой половине дня. Вторая половина дня — больше скульптурная. Опять же, свет льется с утра лучше, чем после обеда.
— Вы выбирали или авиация, или живопись?
— Нет, я не выбирал. Живопись у меня была для души, а авиация была выбрана для того, чтобы осознать себя. Изначально моя профессия должна была быть связана с авиацией. Я хотел летать на больших машинах транспортных грузовых самолетах. Но с большими машинами не получилось, я решил пересесть на вертушку. Она проще для понимания, не надо 27 градусов угол делать при посадке. Вертушка она уходит и садится вертикально. Эта система была изобретена в Германии, в 1934 году. У немцев, у вермахта вертолеты были еще до войны. Я летал, да, я любил и люблю это делать. Германия — это страна техники, страна графики, театра, вертолетов…
— В какой-то момент Вы решили — буду летать, а не заниматься живописью?
— Я так не решал. Просто с авиацией у меня случилась жесткая посадка, я так рубанулся с авиации, и она закончилась у меня в один момент. Это происходит в один момент, ты думаешь, что будет что-то длиться долго, всю жизнь, а оно вдруг кончается. Раз, и оказывается, что ты не проходишь военно-медицинскую комиссию, летная комиссия не допускает тебя до полетов…
После школы я пошел в художественное училище и закончил его, а потом пошел в вертолетную школу. Мне хотелось попробовать себя, мне всегда нравилось небо, я альпинизмом занимался, мне хотелось всегда испытать себя, почувствовать небо, пространство. Там, в Центральной Азии оно начинается так незаметно. Вот горы, например, они идут-идут, как одна ветвь, Гиндукуш, Каракарум, а потом Гималаи. Это звенья одной цепи, начиная с Туркестанского нагорья, потом Тянь-Шань, потом Памир, потом Гиндукуш, потом Гималаи, они идут по возрастающей, а потом они снижаются до самого Индийского океана. Я все свое детство находился посередине этой цепи, на среднем уровне. Как от Невского проспекта до Петропавловки, так у меня от дома было до гор, которые сразу поднимали на 4 тысячи метров. Ташкент сам находится на высоте шестисот метров, здесь нулевая точка высот, а там — высоко над уровнем море, климат лучше. И людям там лучше, они живут дольше, у них больше энергии. У людей, которые живут на высоте, энергетика лучше.

(2010, холст, масло, 50 x 60 см)
— Вам не хотелось бы вернуться?
— Нет, два раза хорошо не бывает. Я встречался с летчиками, которые тоже падали, срубились с авиации. И они тоже с авиации ушли. Есть такой неписаный закон в авиации, если ты раз упал, два упал — выжил, то третий раз — уже живым не останешься. Этот неписаный закон действует у всех экстремалов: и в спорте, и в горах, в горном туризме, альпинизме, у мариманов, у подводников, у всех, кто занят опасными профессиями. Если ты два раза падал, то третий раз не будешь живым.
А если тебе Господь дал, у тебя есть дар картинки красить как не все, и у тебя это получается. Ты можешь трактовать по-своему окружающий мир, рассказывать свою сказку, и люди в эту сказку верят, им нравится эта сказка, они верят, что все так и есть. А на самом деле это твоя сказка, которую ты сам придумал.
Вот, например, картина с этим самолетом «На безымянной высоте», здесь березы — ветер дует, озеро волнуется, это же как происходило? Я написал этюд с натуры на самой высокой точке здесь вокруг Петербурга — на Дудергофских высотах. После этого прошел год, я понял, что этот этюд надо использовать для авиационного сюжета, тем более, что это место само связано с авиацией тесно. Может быть, этого самолета там никогда и не было, этого юнкерса, никто не сбивал там самолет. Но это моя сказка, я ее рассказал, и люди будут верить, что оно на самом деле так и было.
— Я знаю, что Вы не любите вспоминать, что Вы служили в Афганистане…
— Вы знаете, любой человек, который был на войне, все, кто проходил через горячие точки, те же, например, американцы, которые воевали во Вьетнаме, любого человека спроси — и ему будет неприятно это вспоминать. Если начать вспоминать, то как будто, попадаешь в другой мир, из которого очень трудно обратно в реальность попасть. Любой человек в похожей ситуации не будет это все рассказывать, потому что ему тяжело. Он может рассказать в картине, например, про упавший в войне 44 года юнкерс. Сам испытав однажды это падение, художник всегда может его написать даже о другой войне, и этому будут верить. Когда сам человек это пережил, прошел и попал в этот стресс, в это потрясение и сотрясение сознания, только после этого человек может написать картину так, чтобы ему верили. Человек, не переживший, не сможет. Да, у меня есть уже картина с такой темой. Эту картину я готовлю на выставку к Дню Победы следующего года. Мне хочется это написать, это ситуации стыка, что в той войне, что в Афганистане, что в другой войне эти ситуации похожи. Ландшафт и природа разные, но суть войны — она всегда одинакова. Она жестока, это всегда падение, надо прыгать с парашюта, трудная ситуация. Я считаю, что писать надо то, что тебе понятно.

(2011, холст, масло, 70 x 90 см)
— Вы пишете то, что сами пережили?
— Да, я пишу не то время, но фокусирую момент. В любой картине ситуация из жизни обостряется, картина обостряет чувства, и ты видишь и гораздо больше воспринимаешь прекрасное, когда ты в экстремальном сжатом пружинном состоянии пребываешь, ты гораздо сильнее воспринимаешь окружающую атмосферу. Она воспринимается мощнее, после того как ты пребываешь в сильном эмоциональном напряжении. Такая ситуация дает сильное восприятие. Например, почему многие поэты занимались алкоголем, табакокурением, чтобы войти в этот транс, чтобы медитация вывела на такое тонкое состояние поэзии.
— Сколько времени пишется картина?
— Каждая картина пишется по-разному, такого понятия как законченная картина не существует. Любую картину можно писать бесконечно долго, пока сам не поймешь, что пора закончить. Картину можно переделывать, перекручивать, перекладывать, переминать большие слои. Суриков писал «Боярыню Морозову» 8 лет, и под самый конец стало понятно ему, что необходимо дошивать восемьдесят сантиметров холста внизу картины. Он увидел, что не хватает пространства, когда картина уже была готова. Нашил и дописал снег внизу. Та же история получилась у Сурикова с картиной «Утро стрелецкой казни», когда он вшил полтора метра в углу картины, это произошло, когда картина была уже написана полностью. То есть, даже у такого большого композитора, как Cуриков, у такого гениального художника и то бывали ошибки в формате пространства. Одно дело, когда ты на эскизах, на бумаге рисуешь, на листе — это одно видение, а другое дело — это когда ты написал реальную картину в реальном формате в реальном времени, ты понимаешь, где требуется большее пространство. Это такое состояние мистики, это происходит только тогда, когда уже реально воссоздана картина. Например, Тарковский, когда снимал кино, занимался монтажем, видел, что не хватает каких-то кусков, снова брал всю киногруппу и доснимал их эти куски уже на этапе монтажа, вклеивал, вкладывал эти куски, эти частёвки, и они были жизненно важны, и получалась хорошая вещь.
Вот еще большой художник Карен Шахназаров снял недавно кино «Белый тигр» — это художественная вещь, соединенная с большой духовностью. Когда духовность соединяется с художественностью, получается произведение искусства. С нулевых годов прошло двенадцать лет, за это время это лучший фильм о войне. В то время появился лучший, с моей точки зрения, фильм о войне, о финской войне — «Кукушка». Чтобы снять этот фильм, он двенадцать лет размышял, как его снять, а потом сделал на одном дыхании, и получился художественный фильм. Много фильмов снимается, но… как написано в Евангелии, много званых, но мало избранных, так и с фильмами происходит. Много снимается фильмов, но избранных художников кино, как и избранных художников живописи, избранных скульпторов мало. Это очень узкая прослойка, очень узкие врата, чтобы туда протиснуться. Как в Иерусалиме — есть очень узкий проход в городской стене — куда может протиснуться только один очень худой человек, этот проход назывался во времена Христа «иглы», это то самое угольное ушко, куда должен пройти верблюд.

(2012, холст, масло, 50 x 100 см)
— Когда Вы только начинаете писать картину, Вы знаете, какой она будет в конце?
Приблизительно я знаю, в каком формате она будет, какой объем, какая тема будет. У каждой темы есть свой формат нужный, одну тему можно написать в одном формате, например, в формате шкатулки, миниатюры, а для другой темы — и девять метров не хватит. Очень большую роль играет широта темы, от этого зависит и формат картины.
— А портреты Вы пишете?
— Я написал портрет отца моей жены — Булгакова Евгения Анатольевича, потому что он был по духу мне близким человеком. Иногда бывает так, что человек по духу ближе, чем брат по крови. По духу мне очень близка его любовь к морю, к катерам, он любил корабли, стихию морскую. Он — строитель катеров, поэтому я написал его на спасательной шлюпке с биноклем в руках. Идут ходовые испытания, как говорят мариманы, и он смотрит, как испытывается его катер. Это узловой момент, отец на ходовых испытаниях. Можно сказать, что в образе отца жены я еще и писал своего отца, который часто уходил на ходовые испытания кабеля на кораблях, на подводных лодках. Здесь строитель катеров стоит облокотившись на свернутую шлюпку спасательную, которая надувается как надувной матрас большим компрессором и разворачивается, получается большая надувная лодка, которая возьмет 15 человек. Здесь на картине она в свернутом состоянии на рулевом мостике расположена. И если бы я этого не знал, как оно бывает, я бы никогда не смог написать строителя катера на ходовых испытаниях, если бы сам не был в детстве на них. Здесь образ необычный для портрета, зато характеризует этого человека как личность, потому что он всю жизнь строил катера. Хотя он был большой художник и мог делать также великолепные изделия из дерева — вот эту балхану, вот этих больших рыб, наборный щит из слоев деревянного капа.
— А жене Вы посвящаете картины?
— Я написал будущую жену десять лет назад, еще в самом начале наших отношений. А сейчас я не готов еще, хотя хочу взять большой формат. Но для метрового формата, например, нужно расстояние для отхода до 5 метров, поэтому ждем, когда будет готова мастерская, там место позволяет писать портреты большого формата. Мы хотим запустить открытие мастерской в ночь музеев 18 мая, чтобы люди прошли через нее и открыли новое арт-пространство в городе, на пяти углах. Мы сделаем выставочные площади, коридор длинный и три комнаты, чтобы выставлять художников, живопись своих друзей бесплатно. Мы настолько сами натерпелись от грабежа галерей и залов, которые просто берут деньги за площади, не стесняясь с художников, что сами будет давать возможность выставиться без оплаты, чтобы человек мог своих друзей привести, показать свои работы в массе, сделать презентацию. Потому что говорят, что Петербург культурная столица, а чтобы она была культурной, культура должна быть бесплатной, чтобы не было этого безумного выставочного террора. Это происходит на всех площадках в городе, сами площадки безумно дорогие, художник даже не может оправдать эти расходы по выставке, если картины не продадутся, то он будет в большом минусе, а галерея в плюсе. А за что? Они даже не занимаются никакой рекламой, не созывают людей, они вообще не занимаются этими проектами, они дали выставочную площадь и на этом все закончилось. И что хочешь, делай. Поэтому мы хотим сделать свою выставочную площадку, пусть маленькую, зато свободную от выставочного терроризма галерей, для людей. Например, человек накрасил пленэр, месяц писал работы, а выставить их негде, негде показать — тут мы и можем предложить свою площадку, чтобы он повесил картины и пригласил друзей, галеристов, коллекционеров знакомых. Это будет и помощь этому человеку — художнику, и потом это возможность собрать команду. Люди могут собраться одним кругом, одной командой, вместе делать проекты, сейчас все разрозненны. Графики сами по себе, живописцы сами по себе, керамисты отдельно, скульпторы отдельно. Нет скреп, как говорит наш президент. Нет духовных скреп.

(2014, холст, масло, 50 x 70 см)
— Вы служили в монастыре? Как Вы туда попали?
— Да, был, был послушником в Коневском монастыре, на острове. Такое психологическое состояние у меня было в 95-96 году, я оказался в монастыре. Тогда был период, когда шел очень большой наркотрафик из Таджикистана, потому что 201 дивизия ушла с границы, и весь наркотический поток свободно пошел в Россию. В монастырях тогда было большое количество молодежи, наркоманов, бывших зеков. Коневский монастырь занимался реабилитацией наркозависимых. Я в это время как раз попал туда. Я попал с этими ребятами вместе тогда в монастырь, теперь эти ребята стали уже иеромонахами, приняли священство, перестали быть наркозависимыми. И вот, что может Бог, то не может человек. То есть человек только с человеческой помощью от страстей никогда не отойдет, а с Божией помощью — можно. Кодироваться, торпедироваться, фиксироваться, конечно, можно, но человек держится тогда только на страхе. Человек знает, что может уйти в царство небесное, если сорвется, это его держит. А когда ты просишь Бога о помощи, то избавляешься от страстей полностью без страха. Я провел в монастыре год, после этого страсти эти кончились, через Бога я оставил эту манию, а она оставила меня. Это помогает большинству, не только мне. Но человек должен быть верующий, он должен уверовать, тогда все поможет, он сможет освободиться. Горизонталь человеческой веры и вертикаль божественной помощи соединятся в крест, и все возникает крестовая ситуация, которая останавливает все, ставит крест на всем этом. Я видел людей, которые по двадцать лет употребляли героин, происходило чудо, они становились монахами, священниками. Они вышли из той среды, дошли до дна и поднялись к самому верху, к священству. Это было и на Валааме, и на Коневце, сейчас это не практикуется.
Сейчас сделали обитель для молодежи специально для зависимых — бывший управляющий Коневского подворья — Сергей Бельков открыл такую обитель отдельно в Саперном при поддержке Российской федерации. А раньше это происходило в самом монастыре на Коневце.
Кто воцерковился, пришел к церкви в монастыре, потом вернулись опять в мир, опять в эти страсти погрузились, закипела кровь, они не смогли остановиться. Господь дает тебе шанс, ты должен понять это и воспользоваться этим шансом, не возвращаться обратно, потому что погибнешь.
— А Вы писали картины в этот момент?
— Я их всегда писал. У меня не было такого времени, чтобы я их не писал. В тот момент я проходил послушание на огороде в монастыре, занимался сельским хозяйством, можно так сказать. Мне нравится на земле работать. В монастыре много разных послушаний, монастырь — это такая же система, как и вооруженные силы. Только в монастыре другая жизнь, там и дневной сон есть даже. После армии монастырь это дом отдыха, так мне показалось. Все-таки в монастыре ты с автоматом утром и ночью не побежишь вперед за орденами, вертушка не завертится, машина не пошла, такого нет. Или вертушка с обожженными закрылками не вернулась, эти черные лопасти нужно было снимать, новые ставить, каждая лопасть по 80 килограмм, поднять ее надо на высоту семи метров, надо было упираться сильно. Так что в монастыре можно было спокойно отдыхать, по сравнению с вооруженными силами, как у Христа за пазухой. Если монахи проводят в монастыре десять-пятнадцать лет, то они уже не возвратятся в мир, уже им мир не нужен. Но только с верой, обязательно. Монахи и живут годами, и умирают там, на острове, братия хоронит там, и они не возвращаются в этот мир. Там такая среда, на острове — настоящая изоляция, с острова далеко не убежишь, поэтому островные монастыри такие действенные — Валаам и Коневец. В основном, монастыри находятся на материке, имеют связь с миром, с землей более тесную. У них нет зеркала воды, нет берега, где человек может уединиться так, что к нему не добраться. Мне нравятся островные монастыри, где можно жить на острове, в изоляции, и слышать шум ладожского прибоя. Днем и ночью, ты просыпаешься и засыпаешь и постоянно слышишь, как шумит Ладога, по всему острову прибой стучит по кромке, по камню.

(2014, холст, масло, 90 x 120 см)
— Вы помните свою самую первую картину?
— Так это еще в школе при штабе при Туркестанском военном округе в Ташкенте. Все дети штабных офицеров ходили в эту школу, мой отец тоже был связан с военными и смог меня устроить в эту школу. Там все дети с утра должны были соблюдать режим очень строгий, бегать на зарядке. Кстати, там учился будущий космонавт Джанибеков, убиенный генерал Рохлин, такая школа. И вот, чтобы не париться с утра со всеми, не бегать я стал рисовать боевые листки, стенгазеты. Так что первая картинка была в стенгазете.
Первые выставки были связаны с художественным училищем, там каждый семестр проводились просмотры, выставки пленэрских работ учащихся. В училище я быстро привык выставлять свои работы, писал пейзажи, натюрморты, портреты, все, что полагалось. Мне это было легко. Когда я приехал в Петербург, я хотел поступить на монументальную живопись, освоить большую форму, скульптуру, барельефы, горельефы. Я дважды поступал на монументальную живопись в училище им. барона Штиглица, оно мне нравилось больше, чем монументалка в институте Репина. В институте Репина до третьего курса изучали станковую живопись, только потом переходили к монументальной, а в Штиглица сразу учили технологиям монументальной живописи, витражи, сграффито, фрески. Потом человек к диплому определялся с одной какой-то технологией и в ней разрабатывался. Это училище — одно из лучших, оно считается даже лучше строгановского училища в Москве, потому что в Штиглица более разнообразные технологии и материалы. И еще мне хотелось жить в городе тройки, а не в семерке — то есть, в Москве.
— Откуда Вы взяли свой псевдоним — Опульс?
— Опульс — это древняя прибалтийская фамилия, мои предки из Латвии. Эта фамилия известна еще со времен крестоносцев, которые периодически захватывали латышские земли. Латыши оборонялись, воевали с орденом. Вот, например, Таллинн — в Эстонии не отстаивали, а просто продали. Таллиннские купцы просто продали город тевтонам и все. А в Латвии Рига никогда не продавалась, даже немцы там не были, в Ригу немец не зашел. Я очень люблю историю и географию, поэтому могу разные примеры приводить, разные факты. Много путешествовал я в молодости, на Памире, в Тянь-Шане, в Гиндукуше, на Туркестанском нагорье, занимался альпинизмом. Но как с авиацией, с годами молодость проходит, и проходят горы. В горах классно бывать до тридцатника, после этого горы начнут тяготить, усталость накапливается, особенно от больших высот. Это вопрос времени. Время проходит, и ты понимаешь, что не можешь делать сейчас то, что делал двадцать-тридцать лет назад. Например, я сейчас не могу сложить парашют, чтобы с ним прыгнуть потом. Время ушло.
— А характер меняется?
— Остаются ценности. А характер… Скорее, с другого ракурса, с другого угла ты начинаешь смотреть на вещи, на которые смотрел раньше по-другому. Но ценности остаются ценностями, усиливается резонанс восприятия с возрастом. Но нужно заглубиться в любую вещь, чтобы вникнуть в суть.