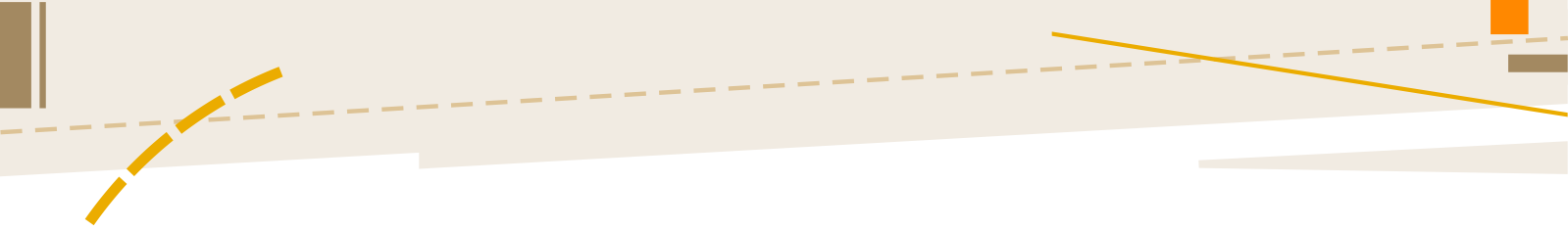Нина Тарасова — художник и автор-исполнитель глубинно-бессознательного дара. Нездешняя и все же всегда желанная в своем изысканном творчестве, сегодня она рассказывает о Серебряном веке, об эпохе, в которой, быть может, опоздала родиться…
— Нина, мне кажется, Вы гостья этого Времени. Ваш век — Серебряный… И в творчестве, и в жизни. Права ли я?
— Все мы гости… Я просто из тех, что сидят чуть в стороне и не очень поддерживают общую беседу. Возможно — ошиблась дверью — в смысле: эпохой. Но это не такое уж редкое явление, и Серебряный век притягателен не для меня одной — значимостью слова, взаимоотношений, несуетностью… Другой шкалой ценностей. Он же антибуржуазен по сути, хотя вещная красота ценилась и воспевалась — она не становилась самоцелью. Если какая-то эпоха и близка мне — по ритму, по вектору, — то да, пожалуй, именно эта.
И как сказано у замечательной Беллы:
«Ни в сырости, насытившей соцветья,
Ни в деревах, исполненных любви
Нет доказательств этого столетья, —
Бери себе любое — и живи…»
ВременнЫе двери, по счастью, наглухо не захлопываются — всегда остаётся лёгкий сквозняк, а уж в таком городе, как Петербург это ощутимо почти физически. Где же ещё дышать духами и туманами? — шучу, конечно.
— Плюсы и минусы «нездешности»?
— Если бы я была совсем «нездешней» — у нас был бы сейчас с Вами сеанс спиритизма. Хотя определённый кокон я, конечно, сплела, — как шелкопряд, — получилась такая внутренняя эмиграция. И однажды с удивлением обнаружила, что внешний мир считается с моим суверенитетом — с правом шагать не в ногу. Вот уж воистину, если настаивать на своих заблуждениях, они обретают силу закона. Хотя бы для тебя лично. Это — что касается плюсов. А минусы? Шелковичные коконы иногда бросают в кипяток, если не ошибаюсь? Для производства тонких материй?
— Самые главные — для Вас лично — знаки и символы 20 и 21 веков?
— О, не берусь оценивать целиком двадцатый и, тем более, мало мне понятный двадцать первый век, но, сводя к любимой теме, — какая-то внутренняя рифма должна быть между первыми десятилетиями обоих веков. Образ пресловутой спирали… Я воспринимаю это как такой вираж на скоростной дороге, когда может занести очень в сторону. Или даже вверх по вертикальной стене. Центробежная сила позволяет вытворять такие вещи. Очень перспективно в эзотерическом плане….
— Насколько Вам созвучен мистически-религиозный мир поэтов Серебряного Века?
— И тут повеяло инфернальным холодом. Правда, повеяло. Я думаю, для всех людей, занимающихся творчеством, знакомо ощущение хотя бы иногда, может быть, один раз в жизни — некоего Присутствия. Благо это или зло — трудно судить. Мистическое, тайное, запредельное — всегда манило поэтов, а уж в эпоху Серебряного века — стало предметом постоянного размышления большинства из них… «Ангелы опальные, Светлые, печальные…» Мне думается, трагична эта эпоха была именно из-за гипнотического интереса к бездне. Но ведь невозможно, стоя на краю, чувствуя её почти под ногами, — не заглянуть. Твёрдую веру в рамках традиций — я воспринимаю как большое благо, данное от рождения или заслуженное доброй жизнью. А если таковой нет — приходится блуждать темными тропинками. Вот и я пока блуждаю…
— Давайте поговорим о Черубине де Габриак. По-моему, это очень близкий вам персонаж… Чем она Вас беспокоит? Что в ней привлекает?
— Вот как раз Черубина и стала порождением опасной игры с тонким миром, как мне кажется.
Фантом, обретший власть над Петербургом — кратковременную, и над своим создателем — Елизаветой Дмитриевой — пожизненную.
Казалось бы, безобидный литературный розыгрыш, талантливая мистификация. Вымышленная красавица испанка, позволившая скромной учительнице-хромоножке покорить литературный олимп. Но Лиля Дмитриева недаром была впоследствии председателем петербургской секции антропософского общества, возможно, она вдохнула в Черубину не только свой поэтический талант, — была там щепотка запредельного, наделившая Черубину де Габриак чуть ли не плотью и кровью.
— У Вас есть пьеса о ней? Расскажите, пожалуйста, подробности.
— О, да. Не устояла. Хотя начала писать, в общем-то, по заказу. Но при подборе материала столько обнаружила противоречий, столько субъективных оценок и современников, и потомков, да и клеветы явной, что с головой, как в омут, окунулась в тему, и как это часто бывает — тема сама повела. Знаю, что сильно подставилась — говорить от лица Гумилёва и Волошина — наглость беспредельная, и в глазах строгих критиков никакой моей любовью к поэзии неоправданная, но я рассчитываю, что мир состоит не только из суровых литературоведов, но и из людей, которых тронет эта история, — к ним, собственно и адресуюсь.
Да и название пьесы несколько освобождает от ответственности: «Правда и ложь о Черубине де Габриак. Музыка ветра»
— Черубина (Дмитриева) — это Вы? Или, может, быть, Вы играете в Черубину? Можно ли предположить реинкарнацию?.. Как Вы вообще относитесь к идее перевоплощения?
— Есть в этой истории, по-видимому, некий вирус. Игра рождает игру — и дальше круги по воде. Может быть, как весь Серебряный век остался недовоплощенным, — слишком резким и насильственным был его конец, — так и история с Черубиной ждёт своего продолжения. А может быть, это предостережение? Зазеркалье опасная вещь. Но, если в него заглянуть… Ох, не случайно зеркальная тема у меня появилась и в романсах — «Вальс в зеркалах» — это у меня то, что называется обычно выходной арией.
Я прожила эту историю вместе с Лилей и стала ею на какой-то момент, и отдала ей свои переживания. Уж если Флобер говорил: «Эмма Бовари — это я»…
Лиля Дмитриева учительствовала — я работаю с детьми, веду изостудию. В ссылке, в Ташкенте, она стала писать стихи и пьесы для детей — и я спасаюсь тем же от жизненных невзгод. Недавно я узнала, что мы с Лилей учились в одной школе на Васильевском острове. Верю ли я в реинкарнацию? — уж и не знаю… Порой мне кажется, что я проживаю не свою жизнь.
— Черубина — чистое мифотворчество… Насколько вам это свойственно — ореол таинственности?..
— Таинственность умышленная — это театр. Что само по себе и неплохо — очень может украсить серые будни, на мой взгляд. А как следствие существования в нескольких пластах, а может быть, у кого-то и в нескольких измерениях — это совсем другое, она может самим человеком и не осознаваться, как не контролируется выражение лица, если ты не профессиональный актёр. Лично я многое не говорю не из недоверия к людям, а оттого что это стало уже внутренней частью того самого шелковичного кокона… Из которого я, собственно, и плету нити мелодий, рисунков, сюжетов.
— Нужны ли миф и легенда вокруг имени автора сейчас, когда новое поколение выбирает так называемую «новую искренность»?
— Как я всё-таки далека от современности… Я не знаю, что такое «новая искренность» — предельная, шокирующая откровенность? Если эксгибиционизм — потребность души и тела, то есть ли смысл прикрываться фиговыми листками псевдонимов?
— Мечтаете ли Вы о «своем Волошине», в смысле о Поэте, который бы вдохновлял, поддерживал, помогал?
— Источник вдохновения я порой счастливо нахожу… Поддержка? Иногда чувствую к себе некое любопытство пространства — и тогда появляется поддержка и на материальном плане. Как-то я для себя давно решила, что держаться за звезды надежней, чем за соломинку. Но это понимаешь, только когда уж совсем тонешь.
— Были ли в Вашей жизни судьбоносные встречи?
— А мне кажется, что все встречи в жизни — судьбоносные, что все люди транслируют тебе что-то важное — мы со своей точки зрения видим только хаотичное сплетение нитей — но это лишь изнанка ковра, и красоту узора нам пока оценить не дано — это набоковский образ, но очень мне близкий и понятный.
Смешно в моей жизни появилась музыка. В студенческом стройотряде один трудновоспитуемый подросток (была такая форма исправления студентами неблагополучных детей) — посмотрев на меня внимательно, горестно покачал головой: ой пропадёшь ты без гитары… И не отстал, пока не обучил нехитрым основам. Хотя скрипочка в моей жизни отчасти была — на уровне незаконченной музыкальной школы — тропа к авторской песне была проложена именно тогда. Потом позвал Серебряный век, выпав тонкой и хрупкой, как засушенный цветок, книжкой из ящика инженерского стола, доставшегося мне по эстафете. Открылась ломкая книжка на пронзительном: «…и вот мне приснилось, что сердце моё не болит, оно колокольчик в далёком и жёлтом Китае…»
Этими гумилевскими стихами заканчивается теперь моя пьеса о Черубине. А до этого были композиции и музыкальные новеллы на стихи Георгия Иванова, Блока, Ахматовой, Бунина, Северянина…
Работа в детской изостудии спровоцировала написание стихов по мотивам детских рисунков…
Собственно, люди и обстоятельства делали за меня выбор постоянно. Наверное, это плохо. А может быть, и нет.
— Расскажите о тех, кто рядом с Вами, кто разделяет Ваше творческое бремя. И бремя ли это? Или награда?
— По сути своей я человек келейный, но небеса, надо думать, посмотрев на мою лень и неорганизованность, послали мне Елену Хомскую — в дуэте мы выступаем в последнее время с программами по Серебряному веку. К вопросу о судьбоносности: Лена заведовала клубом, в котором я учила детей рисовать и, к моему изумлению, пела под гитару почти что моим голосом. Теперь в нашем тендеме она воплощает жизнеутверждающее и энергичное начало и не дает погибнуть моим творческим замыслам — помогает нести то самое «бремя». Я, признаюсь, человеческие способности к созданию чего-либо стоящего — воспринимаю, как поручение, которое не дает покоя и давит грузом ответственности. Но, может, это от некоторой сумрачности восприятия мира… Как бы ни было тяжело нести этот чемодан без ручки — нет ни одного художника в мире, выбравшего бы путь налегке.
— Все, что не игра — то не искусство, говорил Волошин. Согласны?
— А что такое игра? Если есть зазор между сущностью человека и его «костюмом» — игра позволяет его выявить — хотя в обыденной жизни мы, как правило, сцементированы с этой внешней оболочкой намертво. Человек понимает, что маска «на сцене» и маска в жизни — равно не он. А вот с тем, что собственно есть он и взаимодействует искусство и, значит, увеличивает тот самый зазор. По крайней мере, у этих двух сил одинаковый вектор…
Впрочем, получилось доказательство теоремы. Думаю, у Волошина это изложено изящнее. Пойду, почитаю…